Зачем экзистенциальной психотерапии современная философия
Само название нашего направления указывает на то время, когда психиатры привлекали философов, чтобы при помощи самой современной на тот момент философии лучше понимать современного им человека и его внутренние процессы.
Конечно, можно предположить, что именно классики экзистенциализма 20-50-х годов 20-го века раз и навсегда поняли о человеке что-то такое, что не меняется во времени и способно вдохновлять психотерапию на все времена. В определенном смысле я действительно так думаю, иначе не было бы смысла причислять себя именно к этому направлению.
Но, так же, было бы жаль отказываться от идеи тесной связи с современным осмыслением ради традиции и ограничиваться в своей философской базе классикой экзистенциализма первой половины 20-го века. Тем более важным оказывается то обстоятельство, что с 60-х годов века никакой современной экзистенциальной философии в поле науки философии уже не существует, а вот экзистенциальная терапия в поле психотерапии, напротив, весьма успешно развивается.
Так что, если мы хотим поддерживать дух, а не только букву первоисточников, то практика должна продолжать искать в постоянно прирастающей современной философии то, на что можно опереться. С методологической точки зрения важно только, чтобы эти новые философские основания действительно имели дело с экзистенцией, т.е., с максимально доступной реалистичностью проживания человеком себя, мира вокруг и другого человека рядом, с максимальной концентрацией в этом жизни. Некоторым элементам таких оснований посвящена эта статья.
Между любой психологической теорией, не только экзистенциальной, и практикой психотерапии, которую та предписывает, всегда сохраняется определенная дистанция. Различий между теорией и практикой на практике всегда больше, чем в теории.
Иногда эти различия воспринимаются как пространство умалчивания и недоработки важных деталей у самой теории, иногда и как болезненный непреодолимый разрыв реального с идеальными. Одно дело – теоретические концепции о том, как правильно работать, совсем другое – реальные люди в кабинете.
Но чаще основную причину отклонения от "идеальной работы в вакууме" относят к недоработкам практики и к неспособности живых людей в реальном мире осуществить высокие теоретические построения. Поскольку на глобальном уровне с этим ничего нельзя поделать, то мой интерес здесь заключен в том, чтобы подойти к разрыву с другой стороны. Не с максимального воплощения какой-то теории в практику, а, наоборот, через концептуализацию и создание адекватной теории под то, что фактически уже происходит в мире между терапевтами и клиентами.
Методически важно постараться настроить общие теоретические положения так, чтобы они имели не только вдохновляющее отношение к реальной терапии, но и дескриптивное, то есть, адекватно и не-идеалистично описывали, что происходит, и почему. Помимо чисто познавательных выгод, это увеличит предсказуемость нашей практики, ее осмысленность и, в конце концов, ее "научность".
Такая работа имеет смысл для любой из школ психотерапии, но меня, как понятно, интересует здесь именно экзистенциальное направление. Тем более, что оно претендует на особенно тесную связь с философским отражением человека и общества.
История экзистенциального подхода
Ни один из философов, психологов, да и вообще из акторов социального пространства не бывает полностью изолирован от других. Чтобы подобраться к так называемой современности, потребуется сделать небольшое отступление назад по истории, туда, где мы найдем первые следы возникновения свободного пространства между теорией и практикой. Очень естественно предположить, что уже в истоке концептуализации экзистенциальной психотерапии как некоторой отграниченной целостности, оно и должно начинаться.
Есть очень хорошие книги об этом, например, книга по диссертации Власовой О. "Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ". Коротко говоря, она о том, что: "Вопрос философских влияний – это самый болезненный вопрос феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа. Как бы ни хотелось найти четкие параллели, установить соответствия и истоки теоретической системы, достичь здесь однозначности и четкости невозможно. Что-то в определенной схеме будет всегда выбиваться, а что-то даже опровергать установленные "законы".
Дело в том, что экзистенциальная терапия возникла изначально не из теории. Заимствуя идеи феноменологии, герменевтики, онтологии и др., феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ (для краткости ФП и ЭА) старались адаптировать методологию этих направлений к пространству совершенно конкретных психиатрических клиник. Речь идет об учреждениях, где работали Ясперс, Бинсвангер, Босс и др. В силу такой философско-клинической специфики и философская методология, и весь теоретический корпус следовали здесь именно за потребностями клиники и психотерапии, а не клиника подгонялась под теорию. Лишь к 50-м годам 20-го века сами терапевтические методы и концепции уже начали использоваться как основания для психологии личности в целом и стали отдельным теоретическим корпусом.
Здесь нет смысла очень глубоко вдаваться в различия между ФП и ЭА времен Бинсвангера и привлеченного к этому делу Хайдеггера, лучше почитать по этого вопросу отдельные книги. Но логика размышлений требует описать хотя бы обобщенно их методологию психотерапии. То есть, описать, что такое изначально экзистенциальная психотерапия, как она работала и почему.
1.
Под влиянием Гуссерля, подготовительным этапом исследования опыта другого становится процедура феноменологической редукции. Она приводит исследователя к границам непосредственного опыта, по мере того, как отбрасываются все внешние детали и обстоятельства, которые могут искажать восприятие этого опыта as is. В том числе, с необходимостью, отбрасываются все объяснительные теории о человеке, теология, культуральный контекст, медикализация, типологии чего угодно и пр. и др. Разумеется, здесь каждый феноменолог ограничен своими способностями и своим реальным мозгом, но задача состоит в том, чтобы приблизиться к опыту как можно ближе, к такому, как он дан человеку до любых интерпретаций.
Сама по себе эта традиция не реализует трансцендентальную феноменологию и не восходит до чистой онтологии, потому что если мы говорим о другом человеке, которому собираемся принести пользу, то редуцировать этого человека нам незачем, ведь именно его опыт и является целью нашей редукции. С другой стороны, восхождение к сущностям в их абсолютной всеобщности потребовало бы от нас какой-то уже разработанной онтологии сущностей, т.к. здесь они представали бы не просто как эйдосы моего сознания, а как действительно всеобщие эйдосы (Гуссерль этого и не проделывал). Если вы не поняли этот абзац, то спокойно пропускайте, для дальнейшего повествования он не слишком важен.
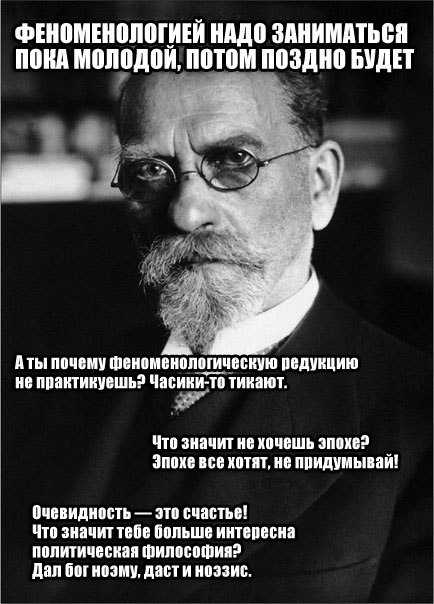
Но редукция используется только на подготовительном этапе, чтобы достичь предела возможности понимания или схватывания, а дальше в дело вступают герменевтический и структурные методы – клиника как раз и позволяет их совмещать за счет применения ко всегда конкретному человеку.
2.
Герменевтический метод на практике раскрывается приблизительно как вчувствование во внутренний мир, в опыт и понимание свойственных этому опыту и миру смыслов. То есть, в том опыте, который мы уже редуцировали от наслоений и интерпретаций, мы должны дальше ухватить какой-то смысл, который существует в рамках мира и сознания самого человека - хозяина опыта. Мы должны понять, не что вообще-то для людей значит, когда, например, человек чешет ухо, или когда ему снится ворона, а что это значит в мире совершенно конкретного, вот этого вот человека. И это первая точка расхождения с психоанализом.
Т.е., говоря строго, как герменевтика бытия, этот процесс позволяет прояснить смысл болезни в рамках опыта конкретного человека и, одновременно, исходя из фундаментальных оснований самого бытия.
3.
Структурный метод позволяет проанализировать уже систему, структуру этого самого опыта и выявить его структурные трансформации. Потому что просто схватить и понять – это маловато для задач клиники.
Чтобы воздействовать на другого человека с какой-то целью (например, с целью его оздоравливания), нам сначала нужно определить структурные границы здоровья и болезни, а дальше выявить те трансформации, которые способны из одного состояния перемещать в другое. Наконец, мы должны создать практические инструменты для того, чтобы такое перемещение действительно произошло. И хотя экзистенциальное направление не любит употреблять в отношении своей работы слово "техника", мы все же используем определенные структурные механизмы, которые и находим благодаря предварительному феноменологическому и герменевтическому исследованию.
Причем структурный анализ обязательно следует за герменевтикой, и ключевыми в этом переходе являются принятие хайдеггерианского концепта заброшенности, и вместе с этим постулирование неразрешенности самой проблемы истоков психического расстройства. И вот это действительно важный абзац.
А. Хольцхей-Кунц пишет об этом так: "Отдельный человек всегда "заброшен" в свой горизонт мира, он всегда обнаруживает себя в его границах, и его об этом не спрашивают. Поэтому здесь герменевтическое исследование подходит к своему концу. Нельзя задаваться вопросом, по какой причине и с какой целью миро-проект все же подчинен категории непрерывности. Неотъемлемые особенности миро-проекта можно схватить лишь в сравнении с другими миро-проектами. То, что может сравниваться, так это различные структуры, поскольку каждый миро-проект отражает определенную структуру со свойственными ей структурными элементами. На место понимания приходит структурный анализ".
Отсюда уже становится видно, что само понятие "патология" в методологическом поле философской психиатрии появляется только в точке перехода герменевтики в структурный анализ, с целью возможности достижения каких-то клинических изменений. "Патология" не существует как "факт" или "по умолчанию". Она конструируется наблюдением и применением определенных структурирующих человеческий опыт дисциплин.
Но ФП и ЭА не только сформировались под влиянием философии, но и сами не остались для философии безразличными. В большой мере эта традиция стала первым опытом построения философско-клинического пространства рефлексии. После, наверное, Ясперса вскоре стало уже почти общим местом, что больного можно и нужно пытаться понимать.
Необходимость этого герменевтического понимания в клинике стала серьезной частью культуры всей второй половины 20-го века. Методология, созданная в целях работы с психической болезнью, со временем привела к рефлексии и частичной деконструкции самого понятия болезни и, соответственно ей, понятия здоровья.
Ведь если все модусы человеческого опыта действительно могут быть глубоко поняты, то следующим шагом приходится предположить, что траектория, по которой мы проводим границу между нормальным и ненормальным опытом, зависит не только от внутренних причин, но и от внешних связей и обстоятельств, от нашей личной реакции на наше же собственное понимание ухваченных нами процессов.
Структурализм как идея, вроде бы, позволял разрешать ряд крайне сложных мировоззренческих проблем. Можно было бы отодвинуть в сторону философию субъекта с ее неясным концептом субъективной реальности. Внимание к структурам языка могло избавить от иррационализма, раз знаки поддаются осмыслению. Наконец, кажется, что так можно определить статус и самой психологической теории: она должна иметь дело со структурами социальных и внутрепсихических систем. Мы вчувствуемся в людей и постигаем структуры, по которым движется их внутренний опыт. Эти структуры можно описывать, классифицировать и таким образом создавать науку о человеке. Так выглядела теория.
Но проблема в том, что структуры, как инварианты основополагающих систем, по определению, должны быть тверды. Предполагается, что нет силы, способной их изменить, иначе это уже не будет "настоящая" структура, а очередная интерпретация. А субъекты, тем более, не способны изменять социальные структуры или психологические, которые в качестве анонимных сил властвуют над ними.
И здесь нам нужно уделить внимание тому историческому контексту, в котором развивались эти размышления.
Дело в том, что обе мировые войны, опыт тоталитаризма, массовое истребление миллионов одних людей тысячами других тоже базировались на вере в существование определенных неизменных структур – социальных, экономических, расовых, классовых. В этом ключе любая тоталитарная идеология, то есть, идеология с претензией на всеобщность – это метанарратив, который постулирует, что "все" устроено или должно быть устроено именно "так" и никак иначе. Что существует нечто неизменное и всегда истинное для всех. Расовая чистота. Победа пролетариата. Мировая революция. Диктатура закона. Истина. Так что, естественно, что в 50-60-х годах возникала очень сильная интеллектуальная реакция сопротивления вообще всему мета-.
В эту реакцию встраивается положение о том, что структурализм далеко не всегда дает ясную картину мира, которой от него ждут.
Важно и то, что материальное положение жителей послевоенной Европы и Штатов постепенно улучшалось. Степени политической и всякой иной свободы возрастали на противодействии тоталитаристским идеям. Некоторые открытия в физике имели важное значение для расширения представления людей о неопределенности. Постепенно крепла установка, что реальная жизнь намного богаче неизменных структур. А приверженность вере в жесткие и неизменяемые вещи, напротив, все больше воспринималась с осторожностью, как то, что способно нанести опасность и обществу, и отдельному человеку.
Философам 60-х годов хотелось возвратиться от тотального и глобального к конкретному и к многообразному. Примерно в это время структурализм вызывает к жизни постструктурализм.
Психологический постструктурализм
Вопреки распространенному убеждению, поструктурализм вовсе не утверждает, что человек не познаваем и неописуем. В этом смысле он не отрицает по определению действие ряда фундаментальных и общих для всех людей законов (наша смертность, телесность и др.). Однако подвергается пересмотру жесткость и устойчивость называний этих законов. Не обязательно размываются сами "данности", в этом просто не всегда есть смысл. Но их границы, относительность и конечность ставятся под вопрос обязательно.
В поле философской психиатрии мы можем проиллюстрировать этот переход появлением феноменологической теории Рональда Лэйнга, основ теории личного поведения Томаса Шаша и других «антипсихиатров». Например, Лэйнг совершенно спокойно употребляет в своих текстах структурный термин "болезнь", не оправдываясь каждый раз, когда описывает способы помочь своим пациентам. Но при этом он же пишет, что термин "болезнь" - это способ общества описать нежелательный опыт некоторых своих членов, дать ему имя и тем вписать в общественные практики его укрощения.
Глубокая деконструкция терминов, относящихся ко внутреннему миру человека (например, болезнь, патология, галлюцинации, истерика и др.) осуществляется не для того, чтобы прекратить всякое "лечение", но для того, чтобы производить свои интервенции более осознанно.
Очень значимый вклад вносят в формирование постстрктуралистской психотерапии Мишель Фуко и Жорж Батай с их осмыслением концептов власти, закона, здоровья, сексуальности и др. "Археология знания" и "История безумия в классическую эпоху" Фуко ставят под вопрос само существование психопатологического опыта как опыта иного, принципиально чуждого. Фуко исследует, каким образом медикализация и психологизация человеческого поведения, эмоций, жизненного опыта и потребностей могут работать на формирование и поддержание систем власти внутри общества.
Терапия общества
Взаимосвязь личного и общественного осмысляется теоретиками второй половины 20-го века как непознаваемая – между ними просто невозможно провести твердую черту. Где заканчивается мой внутренний мир, мои собственные мысли и убеждения, мой эмоциональный фон, и начинается влияние на меня связей с другими людьми, воспитания, культуры? Нет никакой возможности четко ответить на этот вопрос ни в общем, ни в частном.
Поэтому, по мысли Лейнга, Фуко и других их единомышленников, чтобы помочь человеку, оказавшемуся по ту сторону психологической маргинализации, недостаточно просто вчувствоваться в его опыт и понять индивидуальный смысл такой адаптации. Необходимо и даже более важно последовательное рассмотрение среды, к которой человек адаптируется, преобразование этой среды, "излечение" всего общества. Через философию психиатрия уже смыкается здесь с политическим полем. Еще дальше эту логику развивают направления системной семейной психотерапии, концепции Грегори Бейтсона, работы Миланской школы и др.
Под влиянием Лейнга, Купера, Шаша и других произошли крайне существенные изменения в системе психиатризации человеческого поведения в Европе и Штатах в 60-70-х годах. Очень существенная часть тех проявлений, которые прежде подпадали под принудительное лечение, стали рассматриваться как вариант человеческой нормы. Позитивные последствия этого мы можем ощутить сами на примерах демаргинализации многих сексуальных практик, например, мастурбации или орального секса, тяги к перемене мест, "дауншифтинга", депрессии в неклинической форме и на множестве других вещей, которые сейчас мы даже представить не можем как поводы к лечению в закрытой больнице с непонятными методами.
.jpg)
В странах Восточного блока это процесс шел с нескольким запозданием, так что мы здесь и до сих пор имеем возможность наблюдать страх перед визитом к психологу или к психотерапевту:
"Лучше не делиться мыслями о суициде, а то вдруг меня запрут или пропишут таблетки, от которых я отупею".
"Твой психолог просто промывает тебе мозги".
А так же разнообразные варианты само-маргинализации, вроде:
"Мне 26, и у меня никогда не было девушки. Я, наверное, просто больной?"
Идея патологического общества широко внедрялась частью клиники, которая к тому моменту уже осмыслила себя как экзистенциальная психотерапия. Мы находим почти идентичные по смыслу цитаты у Лэйнга и у Ролло Мэя на десять лет позже: "Общество высоко ценит нормального человека. Оно учит своих детей тому, как потерять себя, поглупеть и таким образом стать нормальным" и "Адаптированность - это абсолютно то же самое, что и невроз... Адаптация всегда существует рядом с вопросом - адаптация к чему? Адаптация к психотическому миру, в котором мы совершенно очевидно живём?".
Но амбиция уйти от структур как инвариантов всеобщих законов психики в рамках именно психиатрической клиники нуждалась в чем-то большем, чем просто в размытии границ между социумом и индивидом.
Психологическая практика хотя и подвергалась ожесточенной критике в 60-70-х, тем не менее, продолжала осуществлять деятельность, на которую оставался широкий социальный запрос: адаптацию человека к обществу, сколь бы патологическим это общество ни было, и избавление человека от его страданий, сколь бы экзистенциально оправданными они не представлялись.
Поэтому необходимым было и остается продолжение разработки методологии и теории всего что ни на есть из человека. Перед феноменологически настроенными психотерапевтами встает важный вопрос: насколько мало структуры в описании человеческой психики я могу себе позволить?
Очень интересно видеть, как по-разному к этому вопросу подходят современные экзистенциальные авторы – от манифестации структурного подхода в психотерапии у Эмми Ван Дерцен и Ирвина Ялома, где чем больше системы, тем лучше, до последовательной работы по внедрению постструктуралистских идей у Эрнесто Спинелли.
Психотерапия общества постмодерна
Все эти клинические и теоретические поиски реализуются уже внутри общества, которое я назову здесь обществом постмодерна. По этому поводу требуется ввести несколько пояснений.
Для начала, возьмем определение постмодерна Ж-Ф. Лиотара, хотя бы чтобы отдать ему дань первенства: "Постмодерн, по идее, есть то, что в модерне невыразимо; то, что отказывает себе в наслаждении правильными формами, в договоренности о вкусах, которая давала бы возможность делиться общим стремлением к недостижимому; то, что ищет новые формы представления, но не для того, чтоб наслаждаться ими, а чтобы вызвать сильное чувство невыразимости. Художник или писатель постмодерна занимает позицию философа: текст, который он пишет, или работа, которую он создает, не должны оцениваться с точки зрения изначально заданных правил, о них нельзя судить на основании конкретных критериев, применяя к подобному тексту или работе какие-то общие категории. Сама работа является поиском подобных правил и категорий. Художник или писатель, таким образом, работает вне правил, чтобы сформулировать правила того, что уже было сделано".
Чтобы сохранять связь именно с таким духом современной культуры, необходимо ощущать и определенную дистанцию по отношению к своей профессионализации как клинициста.
Вера в науку как в метанарратив подвергается последовательной критике в культуре постмодерна и постструктурализма, и если психотерапевт сохраняет свою адаптацию к этой культуре, то тем самым, он оказывается в довольно сложном положении.
Для себя я определяю его как необходимость пройти по очень тонкой грани, или даже веревке, как канатоходец. По одну сторону находятся "структуры", классификация человеческого опыта и, собственно, помощь как терапия в смысле излечения от недуга в рамках какого-то социального института. По другую сторону лежит увлечение своей и чужой "человечностью", спонтанностью и отношениями, как если бы никакой разницы между позициями психотерапевта и его клиента не существовало вовсе (как это проделывал в Кингсли-Холле тот же Рональд Лэйнг).
Обе позиции по-своему проблематичны, и хотя на практике я чувствую себя именно таким канатоходцем, формулируя теорию, очень не хотелось бы ратовать за "срединный путь". И также не хотелось бы подвергать эти противоположности и деконструкции – к примеру, найти каждый термин скрытым в противоположном. Метафизика подобной критической процедуры предохранит эту структуру от дальнейшей политической вовлеченности. Сведя все в центр или воедино, мы не сможем сказать совсем ничего дельного.
И вот здесь нам, как клиницистам, оказывается необходимым уже обращение к современной философии. Едва ли теории 20-х годов прошлого века можно брать и некритично транспонировать на работу с обществом постмодерна и всех последующих обществ. Сама возможность полной феноменологической редукции чужого опыта, герменевтики вне любых интерпретаций и, тем более, твердого структурного анализа взывает к переконцептуализации на основе нового представления: представления об относительности границ моего опыта и опыта другого, а так же об относительности любых понимающих теорий в целом.
Не изменен остается только сам дух экзистенциализма в психотерапии: постараться понять опыт и переживания другого, как можно глубже, выкинув из головы, по-возможности, любые системы. Вступить в контакт с другим своей человеческой частью, чтобы оказаться с клиентом по одну сторону от баррикад "патологического" общества. Наконец, вместе определить его интересы и руководствоваться ими, а не социальным заказом на то, как должен выглядеть и чувствовать себя "правильный человек". Эти вещи остаются опорой для работы и индивидуации именно экзистенциальной парадигмы в поле других теорий.

