Терапия и дегуманизация
Во второй половине 19-го – первой половине 20-го века жил такой известный немецкий социолог Макс Вебер. Немногим после плачевного окончания для Германии Первой мировой войны, он выступал на кафедре университета в Мюнхене и спросил студентов: кто здесь находится для того, чтобы помочь своему отечеству, построить благополучное будущее, улучшить жизнь общества? Тем из студентов, кто поднял руки, он говорил просто: вон отсюда.
Смысл науки, в его представлении, заключался в том, чтобы мыслить и познавать. До Канта – мыслить и познавать субстанцию, после Канта – корреляцию. Разные науки познают разное: тело человека, социальные связи, историю древнего Китая, полураспад урана. Немного сложнее дело обстоит с математикой и философией, но и с ними тоже можно открыть корпус работ по философии науки и почитать, для чего они.
Итак, Вебер или Шумпетер в крайне тяжелый для их страны период говорят нам, что, например, занятие социологией совершенно точно не совместимо с политическим активизмом. То есть, с той ситуацией, когда знание добывается для каких-то других целей за рамками науки. Точнее говоря, его можно использовать как угодно, но те, кто это делают, уже не являются учеными, вот и всё.
Можно ли в этом смысле что-нибудь сказать о психологии? Применим ли и к нам подход Вебера? Психолог со стороны когнитивистики тоже ведь может просто изучать связь зрения с апперцепцией образов будущего. Клинический психолог может исследовать влияние блокаторов обратного захвата серотонина на сон и аппетит. Исследования ради познания, ради открытия корреляций.
Но психотерапевт – не теоретик и не исследователь в чистом виде, он практик. Он может быть по совместительству ученым и заниматься исследованиями, но психотерапевтом его делает именно практика психотерапии на людях.
Приходится с самого начала констатировать отсутствие гетерогенности объяснительного ядра: внутри науки находятся крайне далеко отстоящие друг от друга вещи. Кроме того, психология плотно соприкасается с другими дисциплинами: социологией, биологией, философией, педагогикой, физикой, химией и т.д. Мы часто можем заимствовать их методы и даже концепции. Однако по каким-то причинам полученное знание все же не становится социологическим или физическим. Оно остается психологическим или, в случае применимости, психотерапевтическим.
В чем тогда ценностное наполнение нашей практики, отделяющее ее от не-психотерапии? Я говорю не о методологиях, это вопрос точки времени и пространства, я говорю именно о ценностях. О тех ответах, в которые мы упираемся, когда последовательно задаем себе вопрос: почему я делаю именно так? Мы говорим, что это помогающая профессия. Тогда кому и чему она помогает? Конкретному человеку? Или, может быть, обществу? От этого зависит, перед кем мы несем основную ответственность.
Существует, конечно, психология групп и групповая психотерапия. Нуссбаум пишет о связи политических идеологий и эмоций. Фрейд пишет о будущем одной иллюзии, имея в виду критику религии. Так психотерапия занимается помощью обществу? Но если мы агенты по его улучшению, то где грань между политическим активизмом и психотерапией? Может быть, это активизм, просто в отдельно взятой узкой области? Или все же проведение границы между добром и злом – это то, что мы изучаем, а не то, что производим?
Теория ангажированности
Годах в 70-х 20-го века Пьер Бурдье, отталкиваясь от Фуко и Сартра, концептуализировал понятие социологической ангажированности. Его имело смысл применять к любому, кто связан с получением и распространением знаний.
Есть три типа пассивной ангажированности и один тип активной.
Первый – это экзистенциальный, базовый: мы все где-то и кем-то родились, в каком-то году и каком-то теле. Это данность, она влияет на взгляд на мир, является предпосылкой формирования. У меня не могло быть картины мира племени масаев из 17-го века.
Второй тип пассивной ангажированности – это наличие у любого человека (ученого, психотерапевта) политических убеждений, которые он невольно протаскивает в свою практику или свое исследование. Вот клиент внезапно проявляет себя расистом и гомофобом, и мы рефлекторно сдвигаем брови.
И третий – исследование и практика сами по себе будут иметь какие-то политические эффекты. Все равно будут, так или иначе. Каким бы сам человек ни старался быть нейтральным, его практика будет иметь последствия. Это где-то напечатают, на это кто-то сошлется. Все, что мы скажем, может быть в дальнейшем использовано как аргумент. Даже сам факт, что вы все еще что-то пишете, имеет последствия. Степень влияния – это степень вины.
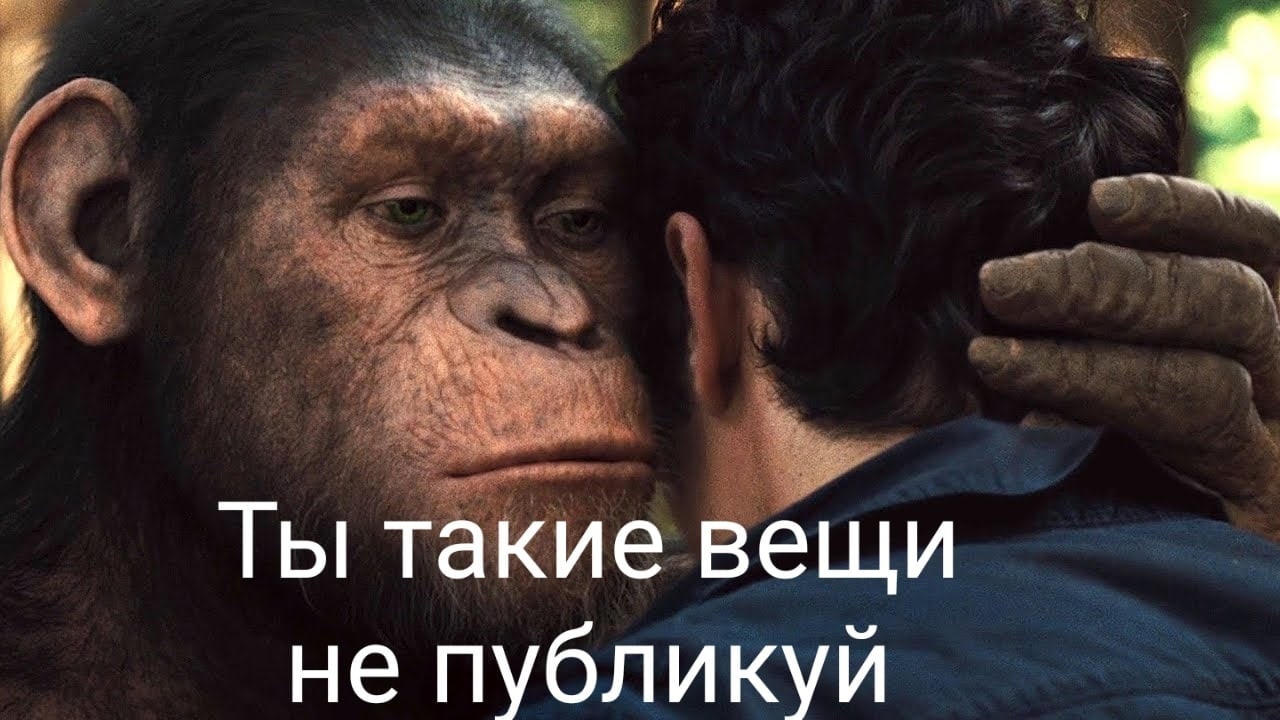
Это пассивная ангажированность, которой не избежать, но ее можно учитывать.
Существует и четвертый тип ангажированности – активный. Когда ученый или терапевт осознанно видит своей задачей достижение целей за пределами своей дисциплины. То самое «улучшить мир». Проводить фем-повестку. Способствовать большей справедливости распределения ресурсов. Почистить ряды тех, кто говорит от имени нашей профессии или институции. Влиять на общество в том смысле, чтобы наша великая страна выиграла глобальную войну за свое существование или чтобы наше израненное отечество прекратило самоубийственное вторжение. Заниматься терапией чтобы заработать на этом много денег тоже относится к активной форме ангажированности.
На практике мы можем говорить о том, чтобы «фонить позицией» или, например, рвать научные связи с коллегами, от которых «фонит» другими позициями. То есть, подчеркнем, что речь здесь идет о том, что у профессионалов находятся более важные ценности, чем те, которые объединяют их по профессиональному принципу. Гражданская, этническая, конфессиональная или какая-то другая идентичность, или все вместе взятые, оттесняют профессиональную.
Предмет моего размышления в том, перестаем ли мы в этот момент быть психотерапевтами или мы просто используем в работе наши аутентичность и подлинность? Другими словами, можно ли аутентичностью и подлинностью оправдать то, что в первую очередь мы начинаем реагировать не из ценностного поля психотерапевта, а проводим свою активно ангажированную гражданскую позицию? Парадокс из взаимоисключающих «вынести себя за скобки» и «присутствовать собою подлинным» открывается здесь в практическом опыте.
Новая искренность
Критика постмодернизма в последние лет 40 была обращена на релятивизм ценностей, на цинизм и деконструкцию понятий. Западная философия от души отрефлексировала общество потребления, разобщенность, обесценивание высоких моральных порывов у постмодернистского дискурса и в некотором роде переизобрела ценность ценности заново. Новая искренность, возвращение к категорическому императиву, ответственность за планету, антиколониальный дискурс…
При чем тут мы? Как терапевты, вроде бы, не при чем, но как люди мы склонны снова придавать значение своим чувствам и поступкам так, как если бы пафос для нас был не отягощающим обстоятельством, как раньше, а, наоборот, придающим значения и веса.
Ну и что, что в моей стране весь мусор попадает на одну свалку, я все равно буду его сортировать.
Да, я не имел прямого отношения с колонизации материков, и все же я готов присоединиться к чувству вины за произошедшие там и тогда зверства.
Или, более обобщенно:
Я буду вести себя так, как хотел бы, чтобы все вели себя. И если я собой в этом доволен, то из этого следует, что я хотел бы, чтобы другие вели себя так, как я думаю, что вел бы себя на их месте.
Иными словами, «на вашем месте я бы помалкивал / сверг правительство / старался быть честнее» теперь воспринимается как полноценный аргумент в дискуссии и как разумное основание. Речь идет не о снижении требований к своей объективности, а о постепенном сдвиге приоритетов, причем даже в академической среде.
Пример, как это работает:
Амстердамский адвокат, сидя в баре и поглядывая новости, размышляет, что на месте курьера наркокартеля из Колумбии, кто находился в рабском положении всю свою жизнь, он точно развернул бы оружие против своих хозяев. Он останавливает себя, прислушивается к своим мотивам, нет ли здесь поверхностности и обесценивания чужого опыта. Он осознает, как было бы непросто это сделать, понимает свою ограниченность и привилегии, и все же он делает вдох, выдох и понимает: да, он бы именно так и сделал, и пусть бы его убили.
Поэтому он совершает доступное ему сейчас действие: донатит на войну с наркокартелями, которая приведет к гибели множества таких курьеров. Нормальный поступок, выражающий его ценности, и подкрепленный ощущением, что если бы он сам оказался на месте жертвы, то по-прежнему считал бы свой поступок наилучшим.
Конечно, одно дело, когда это происходит в баре, а другое дело, когда это же звучит с кафедр или полос научных журналов. И адвокат, и активно ангажированный психотерапевт мыслят свою позицию именно как ответственную и аутентичную. Хотя никто никогда не будет находиться на месте никого другого, кроме своего собственного, со всеми свойственными этому месту ограничениями. Активная ангажированность, в лучшем случае, начинает проявляться в открытой несдержанности трех ее пассивных форм.
Если психотерапия – это духовное пастырство, практика, направленная на улучшение общества, то ок, можно сказать, что все идет как надо. Является ли она чем-то еще? Есть ли у нее какие-то более важные цели, чем привести общество в точку назначения? Получается, что если мы, в конечном счете, хотим вылечить общество, то человек – это просто инструмент?
Ситуация экз. противостояния
Дегуманизация – это юридический термин, который означает, что человек больше не является объектом общего для людей права. Этот термин был изобретен во времена Нюрнбергского трибунала, в первую очередь, для обозначения положения заключенных в концлагерях и был обозначен как отдельное преступление. Мы дегуманизируем кого-то, когда разрешаем себе обращаться с ним по своему произволу, применяя или не применяя к нему какие угодно законы.
Может так, а может эдак. Как карта ляжет. Я не люблю эту группу людей, но некоторые, может, и ничего. Ладно уж, ты можешь сегодня поесть / продолжить работать / перейти границу. Хотя я думаю, что с такими как вы, следовало бы поступать пожестче, но ладно уж, вижу, что лично ты неплохой человек, тебя жалко...
Дегуманизация – не случайный эксцесс, она всегда происходит в ответ на ощущение экзистенциальной угрозы. И это тоже научный термин. Карл Шмитт назвал экзистенциальным противостоянием ситуацию, когда существованию одной группы угрожает само существование другой группы.
Где именно должна была происходить угроза, в реальном мире или в головах у представителей этих групп? Для Шмитта достаточно было только голов, и иронично, что в конце концов в Нюрнберге его осудили именно за то, что он думал и писал, а не за то, что делал.
При чем тут мы? Как люди и как психотерапевты мы можем обнаруживать себя в экзистенциальном противостоянии, дегуманизировать других и быть дегуманизированными сами. Мы можем делать это под лозунгом подлинности и аутентичности, опираясь на новую искренность и требование не размывать границу между агрессором и жертвой, правдой и ложью. Перестаем ли мы быть в этот момент психотерапевтами или становимся просто так себе ими? Или вообще все в порядке?
Проблема дуализма у Дюркгейма
Социальные науки могут немного помочь нам и тут. Например, они предлагают различать профанное и сакральное.
Если очень обобщенно, то профанное – это то, о чем можно дискутировать. Там, где в ходу аргументы, уличение друг друга в ошибках логики, там, где работает юмор. О профанном можно поспорить даже так, что дойдет до поножовщины, но постфактум это все равно будет оцениваться как курьез.
Сакральное – это уже то, о чем спор невозможен. Это та область, где если выявилась разница во взглядах, то всё отношение к человеку трансформируется. Можно и без поножовщины обойтись, но «ты знаешь, я, кажется, всё про него понял».
В ситуации острого социального конфликта или бедствия сфера сакрального быстро расширяется за счет сферы профанного. Эти процессы исследовал Эмиль Дюркгейм на материале начала 20-го века: сначала мы можем шутить о Гинденбурге, евреях или социалистах, а потом уже мы резко не можем о них шутить. Так работает опознавание свой-чужой, потому что так работает страх. Где страшно по-настоящему, там не до дискуссий. Где по-настоящему ненавидишь, там сакральное. По Луману, происходит редукция комплексности (а люди глупеют и озлобляются).
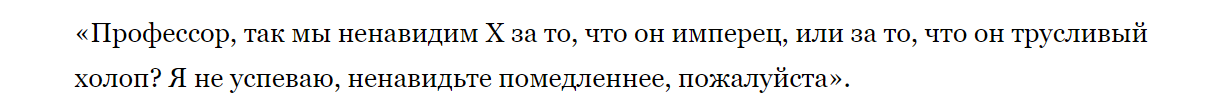
Но время проходит, опасность снижается или само существование опасности нормализуется. И тогда сфера профанного снова расширяется, а сакральное сужается. Люди, с которыми было нельзя, да просто немыслимо иметь дело в эпоху раздувшегося сакрального, снова становятся приемлемыми для контактов. Возникают новые нормативы нормализации, например, для уехавших и оставшихся / разместивших в соцсетях что-нибудь и не разместивших. Так, например, может оказаться, что теперь профессиональная идентичность снова стала доминировать над гражданской или национальной, или над какой-нибудь еще.
Это универсальные качели, происходящие при любом большом бедствии или социальном катаклизме. Проблема дуализма в том, что они вообще не останавливаются. Если применить к этой динамике примат подлинности, аутентичности и непрерывности себя в каждом своем жесте, то можно оказаться фанатиком (на взгляд тех, чье сакральное тоже движется) или лицемером (уже для тех, кто держится за свою непримиримость).
Скорее всего, это говорит о том, что сам аппарат требования тотальной последовательной подлинности, когда мы однажды раздули сакральное, выгнали всех, кто в него не вписывался, и считаем, что держаться этой позиции в будущем будет означать, что наши ценности были действительно нашими, так вот, этот подход возникает из области вменения морали, а не описывает конкретное социальное явление, не схватывает его динамику.

Движение вверх
Еще одним подарком нам от философии может быть различение уровней дискурса.
1. На нижнем, онтическом уровне, просто происходят вещи. Ракеты, увольнения, завтрак, кто-то дал кому-то в морду, кто-то с кем-то выпил. Факты.
2. На втором уровне живут концептуализации фактов и вытекающее из этого индивидуальное и групповое целеполагание. Мы видим, что этот уровень находится где-то между конкретным и абстрактным. Здесь принимаются решения обобщающего характера.
Я не буду иметь дела с людьми, которые… Хотя, наверное, я буду стараться иметь дело с теми из них, кто будет готов продолжать иметь дело со мной.
Я буду стараться не смешивать свои фантазии, что бы я сделал на месте кого-то другого, с моральным императивом к нему. Я буду пытаться понять его, исходя из его контекста. Я не буду психотерапевтом с человеком, с которым я не способен находиться в этой позиции. Я буду признавать, что моя гражданская или какая-либо другая идентичность в этот момент сильнее профессиональной.
Или, напротив, я буду использовать все свои возможности повлиять на мировоззрение и поступки тех людей, кто вступает со мной в профессиональные отношения. Буду использовать все свое время и авторитет, чтобы мир имел шанс стать ближе к тому, чего я хочу, и это будет моей миссией.
Или я просто размещу в разговоре артефакты своей ангажированности, а там будь что будет.
Или я постараюсь скрыть эти артефакты и буду держаться за профессиональную идентичность. Может быть, это даже будет идти вразрез с моими чувствами и убеждениями как гражданина. Как там у Ясперса, человек становится тем, кто он есть, делая дело, которое считает своим.
Очевидно, что последняя позиция просто невозможна в ситуации экзистенциального противостояния по Шмитту.
3. Наконец третий уровень дискурса – чисто абстрактный. Что я обо всем этом думаю в целом. Что я думаю о явлении, если воспринимаю себя как его часть, а не как субъекта.
Какие вызовы встают перед экзистенциально-гуманистической психотерапией в связи с активной ангажированностью терапевтов, подкрепленной идеей подлинности и аутентичности? Как это связано с постмодернизмом, с новой искренностью, с неокантианством, с Ханной Арендт, с возрастной дифференциацией участников и т.д..?
На этом уровне перестает быть важным, нахожусь ли я в экзистенциальном противостоянии с кем-либо. Если да, то мои действия на нижних уровнях просто будут подчиняться одной логике, а если нет, то другой. Опять же, если это я – тот, кто дегуманизирует, то я могу влиять на эту ситуацию и в каком-то плане обезвредить ее. А если дегуманизируют меня, то я могу рефлексировать и черпать в этом исследовательское поле. Необязательно же ненавидеть в ответ. Здесь легко подгружается и профессиональное: мало ли у кого на нас какие переносы.
Наблюдение с третьего этажа позволяет выйти из состояния противостояния на практике. Хотя иногда за этим может следовать и выход вообще из каких-либо отношений, кроме исследовательских, с тем, за чем наблюдаешь. Переформатирование социальных связей может спровоцировать изменение понимания ценностной структуры самой практики, с которой строится идентификация. Грубо говоря, если подлинность и аутентичность так быстро могут приводить к дегуманизации, то, возможно, что-то идет не так с традицией терапии, где это происходит.
Некоторое обобщение
В реальности, конечно, работают сразу все группы мотивов. Люди занимаются терапией потому, что в этом есть смысл и для отдельного человека, и для общества, для материального и психологического благополучия терапевтов, и потому, что это просто интересно. Интеллектуальная честность требует прочертить грань между профессиональной позицией и гражданской в тех местах, где они потенциально мешают друг другу. Там, где мы точно знаем, что не будь мы ангажированы, работали бы иначе.
Об этом говорили антипсихиатры (еще бы, апологеты постмодернизма): цель не в приведении к морали или социальной норме. Она в том, чтобы как можно больше понять и при этом сделать жизнь человека в наименьшей степени невыносимой. В пределе это, конечно, может, сделать и жизнь общества не до такой степени невыносимой, но нельзя ставить телегу впереди лошади. Существует отдельная область, полностью посвященная именно тому, чтобы улучшать жизнь общества, и она называется политика. Можно посещать бордель и синагогу, но не стоит их смешивать.
Мы вспоминаем Сартра, его «личное – это политическое», Грецию с ее идиотами – людьми, которые не участвуют в политической жизни, в жизни полиса. Вспоминаем про третий тип ангажированности – что бы я ни делал, это все равно будет иметь политические последствия. Я поддержу клиента в том или этом? Я постараюсь снизить уровень его тревоги или признаю этот уровень адекватным ситуации? Я поеду на конференцию, заплачу членские взносы? Как я назову свою статью и где ее размещу? Я пойду на интересный семинар, где будет молча висеть над сценой неприемлемая символика, потому что без нее не разрешили бы собраться?
Какие бы микроскопические политические последствия за этим ни следовали, они будут. Я не могу запереться в башне из слоновой кости. Хотя, пожалуй, сейчас мы чаще бываем вынуждены подниматься из окопа, чем спускаться из башни.

Подлинность и аутентичность в привнесении своей ангажированности не могут сами по себе служить критерием честно и хорошо сделанной работы. А активная ангажированность почти сразу приводит к дегуманизации. На примере амстердамского адвоката виден этот механизм, и нет необходимости описывать, как это выглядит в академических кругах. Там, где звучит «я ненавижу», возникает экзистенциальное противостояние, сужается зона профанного, о котором еще можно говорить, размываются единые прежде правила, и происходит дегуманизация человека и целых групп, под лозунгом «вот я бы на их месте…».
Это нормально и это проходит. Но все же именно для экзистенциально-гуманистической психологии и гуманистической психотерапии признаки дегуманизации должны, как будто, вызывать особенное напряжение и вопросы.
