Воспаленная аутентичность
По-древнегречески αὐθεντικός — означает «подлинный», и до середины 20-го века это слово можно было встречать в отношении текстов, предметов искусства и научных идей. Со второй половины 20-го века культ этой подлинности и спонтанности прочно оседает в дискурсе о психологическом комфорте человека. В привычную для западной культуры со времен античности идею о важности «быть самим собой» послевоенное поколение привносит тему освобождения от социальных, моралистических и религиозных ограничений. Быть аутентичным – значит, выражать именно то, что чувствуешь, и, более того, являться вовне тем, кто ты есть для самого себя.
Человек, живущий аутентично, – теоретически, это тот, кто исповедует мораль, аутентичную ему самому, строит аутентичные, то есть, «подлинные» отношения и хочет быть принятым обществом вместе со своими реакциями и с их спонтанностью. Вклад в увлечение этой концепцией внесло распространение в 60-70-х годах в Европе и Штатах восточных духовных учений, благодаря чему аутентичность сейчас включает в себя еще и целостность, внутреннюю непротиворечивость для человека своих мотивов и поступков.
О том, почему в психотерапии этот термин стоит использовать с большой осторожностью, рассказывает этот текст.
Глава первая. Я и не-Я
Выходя за пределы общеупотребимой психологии здравого смысла и духовных учений с их не всегда ясными концептами, можно обнаружить, что вопрос о целостности и подлинности человека неотделим от вопроса, чем один человек вообще отличается от другого. Только отчетливо понимая это фундаментальное различие между Я и не-Я, мы сможем вводить в обиход свою собственную целостность, инаковость и тогда уже, возможно, аутентичность как «настоящее» проявление именно себя.
Поэтому начинать разбираться в том, что такое наша целостность и подлинность, предстоит с ключевого вопроса всех психологических рефлексий: вопроса о текущем бытии Другого — человека как такового и конкретного человека. Вопрос этот является постоянным интеллектуальным предметом психологии, исходя из него, определяются уже все дальнейшие области исследования. Осмысление Другого ведется наукой одновременно во многих аспектах. Речь идет о следующем:
- Экзотическом другом или другом среди «них», определяемом относительно «нас», предположительно идентичных (нас – европейцев, жителей христианского мира, землян, просто людей).

- Социальном другом: «внутреннем» другом, который определяется через системы различий. Например, через разделение поколений и полов, соотношений, определяющих каждого из людей в семейных, политических, экономических и др. терминах. Племянник, врач, анархист. Есть глобальные «мы» и «они», но и внутри «нас» тоже существуют самые разные другие.
- Наконец, в психотерапии речь чаще всего идет о близком (сокровенном) другом. О другом, присутствующем в самом сердце всех систем мышления, и чье повсеместное присутствие указывает на сам факт невозможности абсолютной индивидуальности вне всяких систем отсчета. Родство, сходство, отличие, противопоставление, опыт и влияние – через эти категории постигается инаковость, составляющая нашу индивидуальность.
Один реальный клиент сформулировал это следующим образом: «Индивидуальность должна быть на чем-то основана. Но даже если все точки в пространстве действительно разные, допустим, то в какой-то системе координат они обязательно связаны подобием, хоть по какому-то базису».
Похоже, что мы можем мыслить о себе как о чем-то определенном эпитетами, только в контексте соотнесения себя с другими. Причем, здесь речь идет не просто о терминах для различения, но о самой способности ощутить себя субъектом, каким-то образом отделенным от других. Кто я есть, если нет никаких других и ничего другого? В таком случае, с равным правом можно сказать и «Я есть всё», и «Никакого меня не существует вовсе».
Поэтому один из главных вопросов, которые ставит психология, задают себе и те, кого психология изучает: что такое Я, и что мы могли бы назвать сущностной или сокровенной инаковостью. Репрезентации этой сокровенной инаковости в системах, изучаемых социальными науками второй половины 20-го и начала 21-го века, располагают ее в самом сердце индивидуальности, этим делая почти невозможным раздельное рассмотрение вопросов об индивидуальной и коллективной идентичности.
Внедрение в обиход психологии самого слова «идентичность» приписывают Фрейду – в контексте национальной и религиозной и. Эриксон уже сделал ее центральным понятием своей психологической концепции, причем нигде, вероятно, в силу сложности понятия, ему не дается точного ограниченного и закрытого определения.
Хотя современных теорий идентичности довольно много, проще всегда говорить о ее функциях и свойствах, чем о строгой дефиниции (что вообще-то не должно нас удивлять, учитывая сам контекст постмодерна). После Эриксона, Бурдье, Баумана и других авторов мы можем осторожно обобщить, что идентичность является способом определения самого себя посредством соотнесения себя с другими. Это «свойство психики человека» воспринимать и понимать самого себя, располагаясь на многомерной системе координат, предлагаемой культурой. Я – человек, то есть, не какое-то другое животное, не зомби, но подхожу под все значимые признаки вида человек. Я – психотерапевт, то есть, обладаю атрибутами и самоосознанием себя как такового. Я могу иметь или не иметь национальную, религиозную, сексуальную и любую другую идентичность из тех, что представляет мне на выбор социум, или могу придумать ее себе самостоятельно.
Это длинное вступление нужно нам для достаточно очевидного тезиса: в современной культуре, независимо от того уровня, к которому может быть применено психологическое исследование инаковости, то есть, уникальности человека, его целью всегда становится интерпретация интерпретаций, которые создаются на разных уровнях категории другого – уровнях, определяющих место другого, и связывающих его какими-то отношениями необходимости.
Если я идентифицирую себя по какому-то классу, значит, сам этот класс и место в нем несут для меня какой-то смысл и значение. Исследование моих идентичностей, то есть комплекса моих представлений о себе – это и будет интерпретация психотерапевтом моих интерпретаций того, как устроен мир, и какое место я в нем занимаю. Довольно сложно, но при этом вполне тривиально.
Пьер Нора в своем предисловии к первому тому «Мест памяти» пишет очень красиво: «вспышка ускользающей идентичности мелькает посреди зрелища этих различий. Не порождение, но расшифровка того, чем мы являемся, в свете того, чем мы прекратили быть».
Закономерен вопрос, как, в таком случае, возможна экзистенциальная, а не просто интерпретативная психотерапия – именно как метод. Если любое чувство «Я» или мое переживание инаковости другого есть восприятие следа того места, где сам человек себя располагал относительно других людей, то что тогда может считаться подлинным выражением этого Я? Возникает вопрос: если любое поведение самого человека, его мысль и чувство, какими бы они ни были – это проявление именно его, а не кого-то другого, то что такое аутентичное проявление, в отличие от неаутентичного?
Глава вторая. Классика жанра
У классиков экзистенциализма, Кьеркегора и Хайдеггера, есть свои разработанные концепции того, какая жизнь по-настоящему достойна Человека. В первом случае речь идет об этическом и эстетическом способах существования, во втором – о подлинном или, соответственно, неподлинном модусе бытия.
Этический способ существования у Къеркегора – это значит смотреть вглубь себя, не врать себе, делать, как чувствуешь, принимать последствия своих действий. Это весьма романтическая концепция, построенная на ценностях честности, героизма и противостояния общественному давлению.
Гораздо интереснее дело обстоит с его эстетическим способом. Здесь вовсю проявляются такие типичные противопоставления, как внешнее-внутреннее, общественное-личное, поверхностное-глубокое, изменчивое-постоянное, фрагментарное-непрерывное. Во всех этих случаях второе в паре лучше и важнее первого. По возможности, кажется, Кьеркегор предпочел бы вообще не подниматься на уровень внешних коммуникаций, ритуальных действий и социальных игр. Даже близкие отношения с одним единственным партнером-невестой давались ему с трудом (об этом можно почитать). Все «настоящее», кажется, предоставлялось ему или в одиночестве, или в процессе творческого акта. Глубокая саморефлексия и творчество – и есть настоящая жизнь, всё остальное – вынужденные компромиссы с обществом.
Представление о том, что можно всю свою жизнь проживать так, чтобы не делать различий между внешним и внутренним, быть спонтанным и при этом честным, не ставить серьезных фильтров на выход своим импульсам – все это в каком-то роде похоже на мечту вернуться к состоянию детства или, может быть, первобытности, когда человек еще не был «воспитан», то есть, не был научен «себя контролировать». При этом, такая человеческая мечта представляется не только как регресс, но и как подъем на новую ступень жизни и самосознания.
В зависимости от личных предпочтений и внешних условий для достижения такого состояния возможны две различные стратегии действия.
1. В первом случае у нас есть какая-то надежда, что изменится общество. Постепенно оно может улучшиться и принять меня таким, каков я есть (да и не только меня). В хорошо устроенном обществе не нужно было бы мучительно притворяться и быть не-собой.
Это достаточно экспансивная стратегия. Она способствует формированию как маленьких коллективов, семьей, дружеских групп, профессиональных сообществ, так и движению в сторону преобразования очень больших социальных систем.
Не существовало в истории еще таких революций, на знаменах которых не было бы написано «Свобода». В современном западном мире рядом с этим словом часто находятся и «Право», что подчеркивает, как в нынешнем понимании человеком самого себя свобода – уже не что-то особенное, желанное, но факультативное. Напротив, свобода как ценность сейчас подразумевается как нечто, имманентное по праву гражданского и даже видового статуса. Любой современный человек имеет право хоть на какое-то право. За это мы, конечно, должны сказать спасибо французскому Просвещению.
2. Во второй стратегии достижения аутентичности человек жаждет уже от себя самого достичь такого состояния, в котором он наконец-то подойдет этому обществу и будет в нем принят и одобрен.
Это философия «работы над собой», тайная надежда, что все несчастья, постигающие человека, объясняются тем, что это с ним самим что-то не так. Такая установка выглядит как потребность подстроиться, найти логику мироздания и обрести покой. Наверное, можно назвать этот подход условно восточным в противовес западному.

На практике в любом мировоззрении присутствует обе стратегии и связанные с ними установки. Часто они в довольно случайном порядке встраиваются по мере взросления как «объективные знания» о мире в виде каких-нибудь замкнутых убеждений:
Не выпендривайся. Но прояви себя с лучшей стороны, чтобы к тебе потянулись люди.
Если тебя постоянно бьют по лицу, то, наверное, дело в лице. В то же время, смело выходи из отношений, которые тебя разрушают.
На самом деле, видно, что это вполне работающие, хотя и внутренне противоречивые тезисы. Похоже, что вообще все хорошие и работающие стратегии должны каким-то образом соединять разные полярности, учитывать эти крайности. «Найди своих… и успокойся».
Подлинная экзистенция у Хайдеггера сформулирована несколько жестче. В порыве стремления к подлинности Хайдеггер заходит дальше, утверждая, что тот, кто не живет в полном смысле этого слова, подлинным образом, как видел это Хайдеггер, тот и вообще не живет. Кажется, звучит чересчур, и, тем не менее, мы довольно часто используем этот метафорический ряд по отношению к собственной биографии. «В этом браке я похоронила себя». «Мне 40, а я как будто и не жил», и т. д.
Движение мысли Хайдеггера в этом месте имеет ощутимый моральный уклон. Если ты не живешь, как подобает, то, тем самым, ты не даешь проявляться через тебя всему тому, что в тебе заложено, для чего ты и был рожден. Вместо Бога и божественной искры здесь Бытие, которое являет себя через частные экзистенции, например, через человеческую жизнь. Проявлять то, что в тебе заложено, становится своего рода экзистенциалистской добродетелью. Будь настоящим, будь собой – так звучит этот тезис в современной культурной обертке. Не потому, что именно ты, в отличие от других, заслуживаешь быть, а потому, что есть нечто большее, чем ты, что живет через тебя. У Хайдеггера были очень непростые отношения с гражданскими свободами и самой идеей индивидуального права, имманентного человеку. Эти трудности, в конце концов, обернулись, по крайней мере, интеллектуальной толерантностью к системе нацизма.
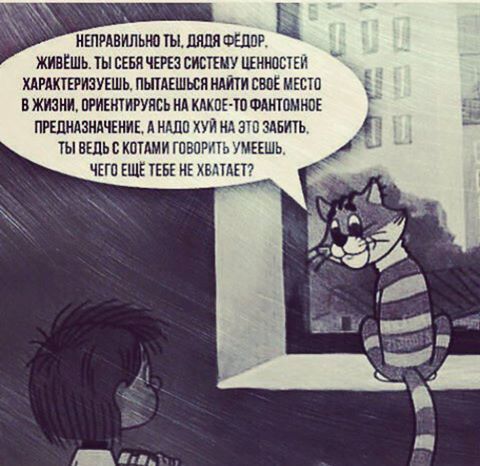
Совмещая концепции классиков, мы, вроде бы, должны были бы утвердить, например, следующие тезисы:
- Проявлять себя наружу соответственно внутреннему состоянию – это хорошо.
- Быть подлинным и аутентичным – может быть и сложно, но это долг по отношению к некоторому высшему или «несущему» слою, тому, что нас сюда привело или создало такими, какие мы есть.
- Такие, какие мы есть – это не всегда то, что хорошо реализует планы Бытия. Иногда мы заблуждаемся, теряемся и перекрываем себя как проводника для какого-то важного потока. И тогда мы уже не можем считаться подлинными или аутентичными, даже если мы полностью спонтанны.
- В наших силах, а то и в обязанностях, улучшать общество, чтобы всем в нем жилось как можно лучше.
- Мы не знаем, как и зачем живет другой человек, и поэтому должны уважать его по умолчанию, как проявление Бытия, Бога или Природы.
- Однако, сами мы должны иметь твердые принципы, что есть хорошо и плохо, и стараться следовать им.
- Лучше быть настоящим и подлинным, хотя и отвергнутым другими.
- Важно приносить благо обществу, этот смысл выше, чем индивидуальные желания.
и т.д.
Уровень противоречивости этих установок ясно доносит мысль, что с борьбой за личную аутентичность все обстоит отнюдь не так просто. Установки эти переплетены между собой, порой входят в противоречие и тогда делают мысли и поведение такими же противоречивыми. Сложнее всего бывает с теми из них, которые принимаются за знание об объективной реальности. В психоанализе есть понятие «работа с контрактами», а мы называем работу с такого рода убеждениями узнаванием человека, чем он живет и дышит.
Например, вот клиент, который мучительно принимает решение, изменять или не изменять жене.
Если вопрос стоит долго и вызывает затруднение, значит, мы имеем дело с несколькими противоречивыми установками, как правильно жить, в которых человеку сложно определиться. Идентифицируясь с каждой из них по очереди, ему кажется, что аутентичным и подлинным поведением было бы то послушать свои чувства и выбрать действие, жизнь и прыжок в неизвестность, то, напротив, взять себя в руки, взвесить приоритеты и поступить так, как он хотел бы, чтобы в такой ситуации поступил с ним его идеальный партнер.
Мука заключается в том, что оба решения аутентичны, оба же и проблемны. Функция психотерапии состоит в прояснении установок или в переоткрывании их заново, чтобы отбросить лишнее и упорядочить нужное. Недостижимой полярной звездой сияет нам мечта о том, чтобы полностью снять все противоречия и достичь целостности. Но, увы, переживание целостности достижимо лишь фрагментарно, там, где мы делаем именно то, с чем идентифицируемся в данный момент. Терапия способна облегчить груз противоречий, развязав связанные друг с другом концепции, но не снять этот груз целиком, отправив человека домой просветленным и тотально ясным самому себе. Мало того, что человек и сам представляется себе как интерпретация интерпретаций, так он еще и меняется непрерывно в ответ на бесконечно изменяющуюся жизнь.

Рано или поздно снова наступит ситуация, когда в одно и то же время человек захочет нескольких разных вещей и будет вынужден выбирать. В этом смысле жизнь всегда будет противоречива. Конечно, он мог бы выстроить себе четкую систему приоритетов, чтобы больше не сталкиваться со слишком глубокими противоречиями. Но проблема в том, что он сам не всегда хочет жить по четкой системе приоритетов. В каком-то смысле, это делает его немного мертвым. Поэтому он одновременно и хочет иметь четкую концепцию о себе, и не хочет ее. И волна, и частица.
Сама эта противоречивость должна быть вписана в концепцию мира и своего Я, чтобы снять излишнюю проблематику и начать получать от происходящего удовольствие. В примере с изменой, клиент будет доволен своим выбором, только когда перед его совершением в полной мере ощутит эту свободу: Ого, я действительно могу выбирать и я выбираю. Необходимость отказаться о чего-то, будучи понуждаемым реальностью и жесткими установками, способна преобразиться в ощущение власти делать выбор, осуществляя почти головокружительную свободу распоряжаться собой.
Кажется, что дело только в словах, и, на самом деле, в каком-то смысле, так и есть. Вопрос об условиях, при которых осуществима психология современности и то счастливое преобразование, о котором мы говорим, должен быть обращен не на метод, а на объект, с которым мы имеем дело. Есть ощущение, что человек Кьеркегора и Хайдеггера – это объект цельный, плотно сбитый и что для него еще мог бы существовать какой-то «правильный» путь. Жить всегда подлинно и аутентично, жить по Совести и т.п. (Совесть у Хайдеггера вообще имеет особый смысл).
Но прежде чем двигаться к такой аутентичности, необходимо обратить внимание на изменения, затронувшие фундаментальные категории, которыми люди мыслят о своей идентичности и своих взаимоотношениях, за те сто лет, которые разделяют нас с последним из экзистенциальных классиков. Нельзя просто переформулировать старые идеи новыми «современными» способами, когда, быть может, постепенно меняется сам объект, человек и его переживание своего Я. Этим и займемся.
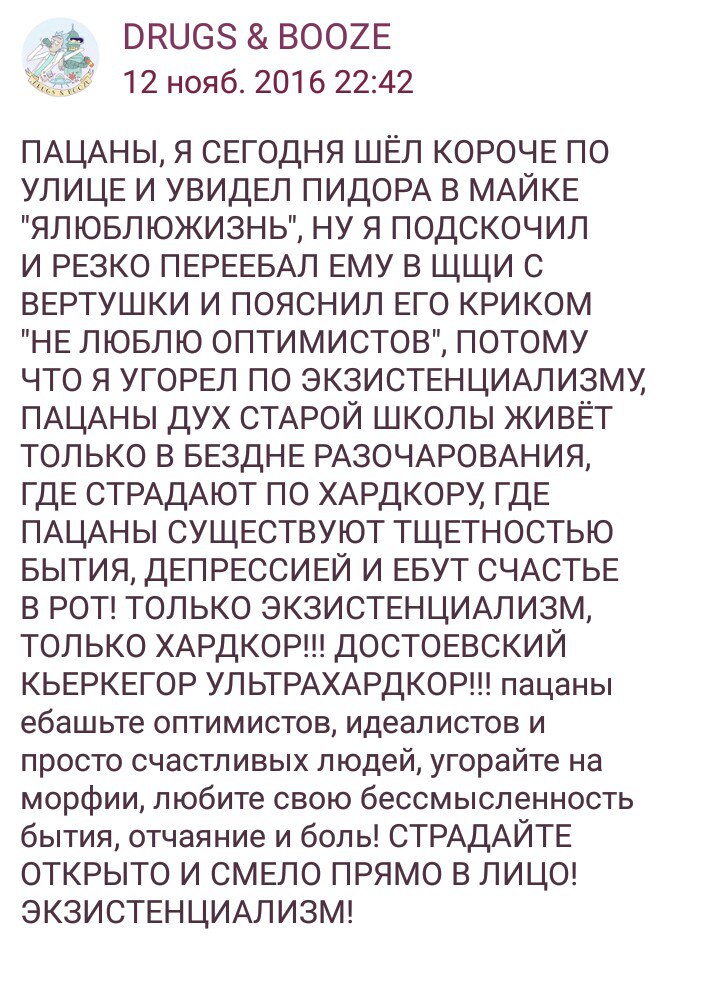
Глава третья. Быть человеком
А что, собственно, дает нам повод подумать, что наш объект меняется? Человек – это человек – это человек, есть какая-то природа внутри него, и мир вокруг него, в этом смысле ведь ничего не может измениться? Вроде бы, это так. И сам ход этой мысли нам необходимо подвергнуть исследованию.
Что следует из веры в неизменность какой-то природы или данности? Из этого следует, что человек и природа хотя бы теоретически познаваемы. Именно вера в неизменность чего-то в человеческой природе и делает ее возможным объектом для науки. Изменяемость до потери границ объекта разрушает сам объект как целостность. А для того, чтобы можно было что-нибудь о чем-то сказать, это «что-то» сначала должно просто начать существовать для высказывания. Итак, для того, чтобы психо могла стать объектом психологии, существование целостного и единого, отграниченного от других психо уже необходимо допустить.
Между тем, конструирование человеком самого себя в обществе воплощается как через утверждение «Я – это…», так и через отрицание «Я – это не то, чем я не являюсь». Это тоже последствие борьбы с тоталитаристскими метанарративами первой половины 20-го века: я – не просто женщина, работник, жена, о нет! Отказ от идентичностей зачастую становится на порядок более энергичным, чем их принятие, в том числе, потому, что принятие подразумевает самоограничение, выбор, конец неопределенности и невозможность дальнейшей возможности.
Бьюз пишет: «На территории изначальной разочарованности, индивидуальности деятельно убеждают других, что они представляют собой нечто большее, чем есть на самом деле; «в действительности я не социальный работник, - признаются они, - не такой, как другие… Я вижу все не иначе как игру». Дантисты, доктора помощники продавцов насвистывают те же самодистанцирующие замечания, чтобы убедить в этом коллег, не понимая, что их сослуживцы в конце коридора используют на работе ту же самую эскапистскую стратегию».
В работе терапевта такая динамика представляется практически универсальной и также очень слабо соотносимой с какой-либо выносимостью материальных условий жизни конкретного человека. В книгах этому находятся разные имена – синдром самозванца, низкая самооценка, недостаток аутентичности переживания своего существования, обесчувствование, потеря себя и древнее заклятие хайдеггерианской «заброшенности».
Однако это общечеловеческое чувство не всегда переживается как неприятное. Например, Коэн и Тэйлор выводят его очень даже задорно: «Но когда дверь закрыта на ночь, а оба ребенка спокойно лежат в своих кроватках, муж с женой поворачиваются друг к другу и смеются. Они подписались на новое самосознание, поборники осведомленности. Они цинично высмеивают тех, кто делится с ними буржуазным расположением, но не понимает шутку. Окидывая взглядом комнату, они заявляют, что в курсе своей видимой принадлежности к пригороду, и тогда с прекрасным пониманием своей особенной идентичности объявляют о том, что далеки от всего этого. «Мы, как и соседи за дверью, можем выглядеть как жители пригорода, но мы оба знаем, что относимся к этому с отрешенностью, с иронией, даже с цинизмом».
В условном современном «европейце» постоянно идет процесс разотождествления с ролями, структурами и метанарративами, попытка защитить себя от потока бомбардирующих его чужих идентичностей, независимо от того, слышал он что-нибудь о постструктурализме или нет.

При этом мы ни на минуту не должны забывать о втором полюсе в рефлексии себя самого – о том, чтобы чем-то все-таки быть. И если современный человек снимает с себя идентичности сначала как шелуху, а потом уже как скальп, то именно затем, чтобы в конце этого поиска найти там так называемого себя настоящего. В глубине души он надеется на существование некоей «настоящей жизни», семиотически не опосредованной никакой знаковостью. Культура модерна и постмодерна – это такой особый процесс, который фетишизирует аутентичность, обозначающую вот эту «настоящесть» и еще, возможно, «глубину», но каждый новый слой самоперевода отодвигает отметку предела аутентичности все дальше и дальше.
Методологии психотерапии это касается в полной мере. Мы движемся вглубь, и каждый новый уровень не последний. Поэтому действительно хорошую психотерапию никогда нельзя закончить полностью. Из чего не следует, конечно, что ее нельзя закончить на приемлемом уровне самоуглубления.
Вот на прием приходит мужчина среднего возраста с запросом на преодоление трудностей в самореализации. Он хочет найти себя – пишу без кавычек. Клиент не ищет ни подходящую ему социальную роль, ни работу, ни статус в обществе или в семье, даже не новое название смысла жизни или религию. Точка в системе координат идентичностей его больше не удовлетворяет, потому что он узнал, что он – ее след. Не прочитал, просто узнал «из воздуха», и тем достовернее его чувство. Он ищет собственной подлинности, как если бы она была потеряна где-то между босоногим детством и первым дипломом (чаще всего так).
Аутентичность в фантазиях, как всегда, сопрягается со свободой делать то, что ему самому естественно хочется делать, с большей спонтанностью в выражении чувств, с лучшим пониманием, кто он такой. Большинство современных людей из этого общества ищут примерно такого. Перед визитом к специалисту по обнаружению его настоящей жизни и аутентичности принято уже хотя бы раз попробовать справиться своими силами. Уйти от жены, сменить работу, родить ребенка и пр. – из ощущения, что что-то идет не так, а что – непонятно.

Описание чувства неподлинности своего бытия знакомо нам по многим авторам. Концепция, в которой социальная жизнь – это игра, увлекаясь которой человек теряет самого себя – вообще универсальный сюжет культуры. Но нарратив «помни, кто ты есть, старайся быть подлинным…» в культуре 20-го века развертывается в продолжении «…если предположить, что хоть какое-то ты там действительно существует».
Любую личную ценность можно поставить под сомнение или применить к ней какую-то форму деконструкции. Даже самые фундаментальные ценности, вроде добра, сохранения жизни, любви или сострадания можно проанализировать и деконструировать. Это может быть элегантно и это увлекает, но, кажется, именно потому, что обещает в конце деконструкции приближение к какой-то более глубокой истине про себя. При том, разумеется, что понятие истины тоже подвергается деконструкции… потому что в такой последовательности будет содержаться еще больше истины. Это настолько общеупотребимый процесс мышления, что многим философам приходилось использовать сильные средства для расширения сознания, чтобы только выйти за пределы этой матрицы мышления хоть куда-нибудь.
Но жизнь все-таки противоречива, а потому в противовес к поиску истины существует и определенный cordon sanitaire, проводящий границу между материальной жизнью и обесцениванием всех консенсуальных ценностей. Ведь, в конце концов, мы все-таки хотим жить здоровее, богаче, быть успешнее, даже понимая, что это общество потребления и так далее… Когда эти два «понимания» плохо скоординированы друг с другом, человек ощущает то, что часто вписывается в рамки кризисов среднего возраста, подросткового возраста, просто «экзистенциального кризиса» и т. д.
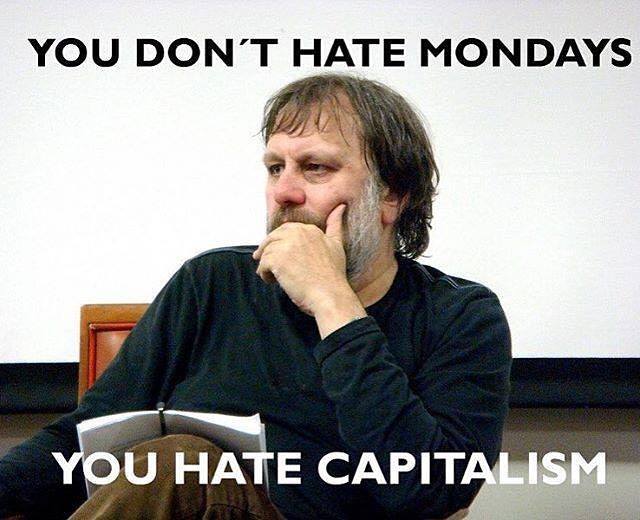
Разумный способ удовлетворительно примирить в себе стремление к «настоящей», спонтанной жизни и стремление к жизни социальной, материально-благополучной, успешной внешне – это фантазия о том, что по достижении аутентичности нас как раз и ожидает социальное счастье. Т.е. именно «та самая» работа, «те самые» отношения и пр. Эту фантазию с удовольствием разделяет общество как приемлемый выход, дающий надежду, что противоречия возможно преодолеть, стоит только, как следует, постараться. Если вы действительно «найдете себя», то дальше у вас «все будет хорошо».
Здравый смысл тесно переплетается здесь с мечтой. Ведь действительно, если мы хорошо определим свои потребности и возможности, то сможем выбирать именно то, что нам подходит, и тогда коэффициент полезного действия от наших усилий будет куда больше, чем от активности в разные стороны или от наступания самому себе на ноги. Но, с другой стороны, нет никаких гарантий, что в какой-то момент мы не найдем себя «настоящих» лежащими на диване с бутылкой дешевого алкоголя, без работы и без семьи. Кто его знает, что там в нас настоящее-то…
Важно, что в стремлении «найти себя» речь идет не просто о том, как человеку обустроить свою жизнь, чтобы она больше соответствовала его потребностям, в этом не было бы никакой новизны. Наша история не про хорошую адаптацию, а про личное «спасение» от тотального культурного релятивизма. Найти себя в себе – на уровне ощущений – это все равно, что создать себя, выпустить птичку из клетки, дать ей жить на воле. На практике здесь могут быть оттенки «я хочу чувствовать больше чувств», «хочу знать, что моя жизнь имеет смысл», «хочу знать, что проживаю свою жизнь, а не чужую», «узнать, кто я на самом деле» или «я хочу чувствовать меньше тревоги».
Материалом для поиска себя остаются, в первую очередь, примеры других людей, их деятельности и судеб, поэтому со специалистом по открытию в людях их личной аутентичности в процессе работы могут происходить всякие неожиданности.
Например, вот клиентка, которая внезапно и резко увлеклась веганством и спасением окружающей среды. Она совершенно бесспорно находится в состоянии наблюдаемой полной целостности своих мыслей, чувств и действий, она искренна, аутентична и чувствует себя подлинной, как никогда. Но при этом картина вызывает у терапевта отнюдь не радость, а тревогу, недоверие и непроизвольные мысли о манифестации какой-то психопатологии.
Убежденные в своей правоте, совершенно «аутентичные» и целостные фанатики совершают террористические акты. Аутентичные ревнивцы убивают своих партнеров, а люди с синдромом Стендаля разрушают великие произведения искусства.
Такая аутентичность совершенно не подходит обществу – en masse подходит только мирная и не вредящая, а, в идеале, и обогащающая это общество какими-нибудь новыми вариантами идентичности, чтобы у следующих поколений было больше выбора, еще больше выбора.
Сама принципиальная возможность существования здорового человека в его аутентичности, за которым следует увеличение его комфорта по всем психологическим статьям – это основополагающий принцип работы психотерапевта в современности. Просто реализовывать через себя замысел Бытия для большинства клиентов недостаточно, все мы надеемся на улучшения в материальном, психологическом и духовном порядке. Поэтому идеи Хайдеггера и Кьеркегора работают достаточно условно и скорее как терминологический маяк. Уже Бинсвангер, приглашая Хайдеггера в свою психиатрическую клинику для консультаций по работе с больными, уходил от чистоты идеи «быть собой» к более сложной идее «быть собой в обществе».
Для разрешения противоречия между мной и обществом увеличение осознанности – это единственное безусловное благо, применимое к любой клинической ситуации, все остальное вытекает из него. Поэтому в нашем подходе достаточно умеренно используются трансовые состояния, телесные и арт-терапевтические методики. Скорее, это все-таки психотерапия для тех, кто не против стать «умнее», что бы это ни значило. Так же, как и любые другие формы психотерапии, мы обслуживаем общую фетишизацию аутентичности, целостности и общую жажду спасения от релятивизма ценностей, попутно отсекая претензии на аутентичность и самореализацию в тех формах, которые к социальному благу не приводят. Разница в том, что мы говорим об этих проблемах вслух.

Кажется очевидным, что никакие новые установки о мире, которые бы противоречили концепции клиента, в его мировоззрение не встроятся, но терапевт все же старается быть открытым в своих убеждениях, чтобы у клиента была возможность увидеть их разложенными перед собой и выбрать те, что обладают для него хоть какой-нибудь ценностью. Если ничего не подходит, то хотя бы можно убедиться, что их бывает много. Роджерс говорил, что психотерапевт открывает рот только для того, чтобы показать, что он не спит, или что он может ошибаться.
Глава четвертая. Вся правда в кабинете
Но, несмотря на всю ценность подлинности, методически ни в одном из направлений психотерапии не может быть и речи о том, что требовать от клиента на самой сессии говорить правду и только правду.
Это не обязательно, чтобы входить в контакт с тем, как человек говорит и думает. В «как» содержится больше истины, интересующей терапевта, чем в «что». По тому, что мы видим, мы можем предположить, как это устроено внутри – это такой совершенно структуралистский подход, снабженный также референсами и к чувственному опыту самого терапевта.
По собственным реакциям и ощущениям (контрпереносу) терапевт ориентируется в том, что сейчас происходит с человеком, каковы его основные психологические защиты, где места, которые он защищает, как именно своим поведением клиент провоцирует окружающих людей на те отношения, от которых страдает, и даже об уровне его психической организации – сидит перед ним психотик вне обострения или же обычный здоровый невротик в тяжелом кризисе. Существуют даже характерные идиомы, описывающие такого рода ощущения у терапевта, например, запах шизофрении. Типичная скука большой депрессии, сомнения в себе и своем профессионализме, свойственные работе с нарциссически нарушенными клиентами, страх или дезориентация в ответ на пограничного клиента иногда сигнализируют о том, с чем имеешь дело, раньше и лучше, чем интеллектуальный анализ или какая-то правда о внешней жизни клиента.
Степень важности своих ощущений и уровня тренированности этого навыка можно проиллюстрировать ситуацией супервизии. Когда терапевт описывает супервизору свою работу с клиентом, которого тот никогда в жизни не видел, то супервизор вполне может выдать реакцию вроде «ты говоришь, что у него депрессия, но я сейчас в контакте с тобой по своим ощущениям подозреваю, что это не так, и что он просто очень печалится». Конечно, в таких случаях речь идет обо всем комплексе полученной информации, но при достаточно натренированном инструменте понимания своего контрпереноса этот аргумент оказывается весомее, чем психодиагностические опросники. К сожалению, чтобы натренировать этот орган, нужна работа под супервизией со случаями клинических нарушений, но, по крайней мере, такой инструмент в арсенале психотерапии есть.
На самом деле, обнаружить этот канал информации довольно легко и в обычной жизни. Переживание особой атмосферы между нами и другим человеком, того чувства, которое возникает у нас только рядом с ним, доводит до нас обоих ощущение друг друга сильнее и яснее, чем информационное наполнение беседы (или его отсутствие). Когда мы вспоминаем о каком-нибудь друге или о родственнике, то, прислушавшись к себе, можем ощутить, как это: «он и я», что это значит на уровне ощущений.
Иногда ощущения от разных людей оказываются типологически схожими, вопрос только в том, как учесть наши личные искажения и предвзятые интерпретации этих ощущений. Поскольку каждый из нас друг для друга является нашей интерпретацией исходящих от него сигналов, то и психодиагностика является в полной мере методическим изучением своих собственных реакций на различного рода стимулы, исходящие от другого, и навыком их интерпретации в клиническом ключе. Если избавиться от субъективности в отношении других людей невозможно, остается поставить ее на службу пониманию.
Глава пятая. Экзистенциальные данности
Еще одно важное представление, связанное с аутентичностью, на котором мы работаем, как на твердом, – это уверенность в возможности мобильности, изменяемости различных условий жизни человека – внутренних и внешних. Это представление фундаментально важно в практике работы с тем, что традиционно принимается нами как данности жизни.
В зависимости от того, что мы принимаем за данность, вокруг этого мы будем строить не-данности, свою произвольность и живость. К этому остову мы также будем адаптироваться, чтобы занять более комфортное положение.
Существует несколько систематизаций того, что мы в экзистенциальной психологии относим к данностям, это наш способ очертить целостность и неизменность, вокруг которой возможна мобильность и выбор. Скорее всего, мои читатели знакомы с данностями Ялома, Ленгле, Кочюнаса и т.д. Смертность, телесность, бессмысленность, свобода, экзистенциальное одиночество…
Навскидку кажется, что раз мы все живем в одном обществе и воспитаны на одних и тех же концепциях, то и представления о данностях нашей жизни должно примерно совпадать. Однако, ближе к реальным людям оказывается, что ни одна «данность» не принимается абсолютно всеми по умолчанию. Кто-то, например, верит, что смерти нет. Кто-то не связывает себя с этим конкретным телом или представляет себя субъектом, не обладающим вообще никакой свободой воли.
И очень хорошо, что не все принимают на веру «общие для всех» данности, иначе мир бы не развивался и не обогащал нас все новыми идентичностями. 10 лет назад один из моих преподавателей безапеляционно произносил, что трансгендеры – это люди, которые не готовы принять данность своего тела. Прошло совсем немного времени, а мы уже можем размышлять о том, что считать объективной данностью для трансгендера – его паспортный пол, хромосомный пол, «пол» после операции или во время нее. Его внутреннее самоощущение. Возможен и отказ от такой идентичности совсем – с помещением взамен нее гендера или не помещением ничего. Любая социальная «правда» меняется со временем, и даже то, что казалось всегда самым незыблемым – телесность и смерть.

Есть варианты изменения отношения к телесности попроще, например, интерпретация желания человека совершить себе пластическую операцию на лице или на теле. С точки зрения моралистических норм 18-19 веков благом было бы принять себя таким, как есть, смириться и найти в этом свой личный смысл. Но в условиях новых возможностей у современного человека появляется выбор, что принимать, а что изменять.
Расширение выбора постигает распределение ролей в семье, возможность менять место жительства, сферу деятельности и т.д. Поскольку представления о данностях являются совершенно базовыми для формирования и поддержания устойчивой картины мира, то любые изменения в них происходят медленно и чреваты когнитивными и эмоциональными кризисами. Сложно как решиться на то, чтобы расширить свою зону приемлемого для себя, так и на то, чтобы ее вынужденно или добровольно сузить.
Бывают драматические случаи, когда человек предпочитает умереть, но не сдвинуть свое представление о данностях в его жизни. Так, клиентка, страдающая раком молочной железы, может отказываться делать необходимую ей операцию по мастэктомии, потому что мыслит себя только как «женщину», а женщину мыслит только как обладающую молочными железами.
Другой драматический пример – суицид в ответ на изменившиеся материальные или социальные условия жизни, в результате разорения, увольнения или какого-то другого личного катаклизма.
В общем случае работа с данностями такого плана заключается в акте сознательного выбора. Буду ли я меняться под реальность, или буду менять реальность под свою желаемую картину. И где та грань невыносимости реального, которую я могу выдержать, продолжая при этом оставаться самим собой.
Как и в случае с установками, здесь можно много раз менять точки зрения, совершать диалектические переходы. Например, вместо того, чтобы говорить, что это «человек таков», можно говорить, что это «мир таков», здесь не будет принципиальной разницы, каждый имеет право на такую небольшую роскошь предпочтения, а субъективно это бывает очень важно.
Например, с мыслью о том, что я сам противоречив и никогда не буду совершенно и полностью доволен своей жизнью, смириться бывает тяжелее, чем с тем, что, на самом деле, это просто мир противоречив и бесконечно изменчив. А я-то норм, я стабилен, просто мне постоянно придется жить и приноравливаться к этому миру. Иногда одно такое переопределение уже дает облегчение, как если бы ситуация вдруг изменилась.
Довольно большую часть работы с клиентом занимает сверка представлений терапевта и клиента о его возможностях. Иногда эти представления отличаются на порядки в любую сторону. На моем опыте можно с достаточной определенностью судить о том, что работа приближается к успешному завершению, по тому, насколько эти представления у двоих пошли на сближение. А обрывом этого сближения можно объяснить достаточно большую часть неудач, когда клиент уходит неудовлетворенный, или когда поставленных целей так и не удалось достичь.
Попросту говоря, терапевт и клиент вместе ищут, что в жизни клиента можно изменить, на что он способен в реальности, но не с целью расширить эти рамки как можно дальше, нет (и это очень важное постмодернистское нет), а только с целью индивидуального совпадения и ощущения обоюдного понимания происходящего.
В тот момент, когда оба одинаково поняли то, что происходит с человеком в его жизни, и что он действительно может с этим поделать, терапия перестает быть нужной. В терминах аутентичности это означает, что терапевт и клиент нашли друг друга как реально существующих людей и признали реальность друг друга как общую для обоих. Не в том смысле, что они теперь руководствуются одинаковыми установками, но в смысле одинакового представления о возможностях этого конкретного человека.
Например, клиент говорит: «Я могу в жизни это и это, и не могу вон то, такова моя жизненная данность на этот момент, я это принимаю, и меня это устраивает».
Терапевт говорит: «Да, я действительно согласен с вашей оценкой ваших возможностей и ограничений, я тоже их принимаю, и у меня есть внутреннее согласие, что так тому и быть».
Мы ничего не хотим больше делать, никуда идти, ни с чем бороться. Мы пришли туда, где все понятно и все – в целом, в порядке. Так выглядит хороший итог у длительной терапии. Хороший вопрос, как это соотносится с заявлением выше, что хорошая терапия не может закончиться? Жизнь вообще противоречива.
Говоря об этом языком философии, исследование реальности клиента в контексте современных теорий идентичности – это поиск общего на двоих солипсизма, который будет комплементарно согласовываться с внешними обстоятельствами и будет при этом достаточно устойчивым, а не случайным. А чтобы клиент в процессе своего поиска не был слишком больно растянут между его реальностью и реальностью терапевта, последний осуществляет свои интервенции пониманием.
Такая работа экзистенциальна, не механистична и равно уважает систему ценностей обоих, находящихся в кабинете. Максимальный результат достигается, когда представления о реальности, данностях или же об аутентичности двоих перестают противоречить друг другу. И с этим связано такое большое влияние на исход терапии уровня осознанного сотрудничества клиента с терапевтом и готовность обоих терпеть иногда очень серьезный дискомфорт от их несходства.
При всей возможной «непредвзятости» и уважении к картине мира клиента как к равноположенной своей собственной, терапевт все же строит какое-то представление о том, что с этим клиентом «не так». Это базовая посылка, чтобы начинать двигаться хоть в какую-нибудь сторону и ставить терапевтические задачи. Если с клиентом «все так», а иногда клиенты крепко держатся за желание производить именно такое впечатление, то терапевт здесь помочь ничем не может.
Но и клиент, в свою очередь, тоже отчетливо ощущает, что «не так» с этим терапевтом. Даже если на сознательном уровне ему «все так», человек по умолчанию не способен находиться в состоянии непрерывного ощущения удовлетворения всех своих потребностей. Отказ кого-то одного из них от сотрудничества в движении по направлению к общему солипсизму обозначается термином «сопротивление».
Глава шестая. Сопротивление
Сопротивление – это бесконечно разнообразные проявления того, что одному человеку трудно понять и разделить картину мира другого, в которой ему следует начать или перестать делать то-то или думать так-то.
Если смотреть на ситуацию с такого ракурса, становится понятно, почему в дискурсе экзистенциальной терапии едва ли может прозвучать что-то вроде «борьбы с сопротивлением». Бороться с тем, что другому сложно принять твою картину мира как свою реальность – это значило бы просто бороться за власть.

Тем более, сложно представить себе яростную борьбу за чужую аутентичность. Или терапию по поиску этой чужой аутентичности в предписанных рамках уголовного кодекса и социальных моральных норм.
Львиная доля работы с целостным восприятием клиентом самого себя заключена в том, чтобы заслужить доверие и дождаться, чтобы человек пошел на риск, рассказывав о себе что-то «стыдное» или «страшное». Вся целостность никогда не вмещается в рамки социальной желательности. Не сюрприз, что аутентичность человека – это не только его спонтанное выражение любви к миру или высоких страданий. Поэтому внутренняя работа по тому, чтобы принять постыдное или неприемлемое и интегрировать это как часть образа этого человека, которая не обесценивает его и не делает хуже, способствует тому, что отторгнутые части опыта и личности клиента принимаются и интегрируются уже им самим в целостную Я-концепцию. От эпизодов мелкого детского вранья до глубокого криминала. По этой причине я не думаю, что экзистенциальная психотерапия – это хороший вариант для клинических психопатов.

Руссо, Бентам и другие теоретики Просвещения полагали, что человек хорош сам по себе, и стоит только создать ему условия, как это непременно проявится. Конечно, они не могли знать, сколько тяжелых психических патологий формируется пренатально, в первые месяцы жизни или определяется генетически.
Но даже если не говорить о патологиях, то человек не хорош и не плох, он именно такой, какой он есть сейчас. В обществе не будет условий, чтобы в нем могли проявляться только его благоприятные качества. Или мы это принимаем, или нам будет непрерывно больно от столкновения с реальностью того, что мир не подчиняется никаким идеалам. Кажется совершенно ясным, что достижение аутентичности, подлинности и спонтанности человека как таковых, просто ради них самих и в любом виде, не может быть общей целью терапии и никак не заслуживает своей богатой иконографии.
